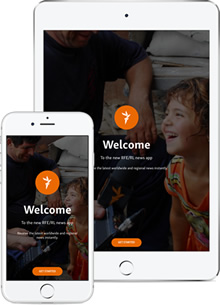Тема "художник и власть" не теряет своей актуальности. Свободен ли артист, выступающий на казенной сцене? В феврале 1917 года артистам императорских театров показалось, что они обрели долгожданную творческую свободу.
25 февраля 1917 года "весь Петербург" – впрочем, тогда он уже назывался Петроградом – был на премьере в Александринском театре. Давали "Маскарад" в постановке Всеволода Мейерхольда. Спектакль поразил публику необыкновенной роскошью сценографии. Этим зрелищем попрощалась с миром и канула в небытие императорская Россия.
"В последней картине, – рассказывал критик под псевдонимом Homo novus (Александр Кугель), – пели панихиду по отравленной Арбениным Нине. Режиссер сделал из этой панихиды целое представление. Явились какие-то старушки в шубках и салопах, пел хор Архангельского… Где-то в отдалении стреляли и просили хлеба…".
После спектакля бенефицианту Юрию Юрьеву, исполнителю роли Арбенина, торжественно вручили подарок императора – золотой портсигар с бриллиантовым орлом. Сам Николай II в это время находился в своей ставке в Могилеве. До отречения оставались считанные дни.
Пустое и громоздкое зрелище было последним бесцельным фейерверком на фоне только что умершего прошлого
"Площадь перед театром, – вспоминал художник Юрий Анненков, – была безлюдна. Я сделал несколько шагов, когда неожиданно где-то поблизости затрещал пулемет. Перейдя с опаской пустыню Невского проспекта, я завернул за угол и увидел перед собой баррикаду, сложенную из опрокинутых саней, каких-то ящиков и столбов".
"Это пустое и громоздкое зрелище, – писал художник Александр Бенуа в своей рецензии "Напрасная красота", подписанной псевдонимом Amadeo, – было последним бесцельным фейерверком на фоне только что умершего прошлого".
Наутро все проснулись в новой стране. Что делать с внезапно наступившей свободой, никто из актеров и режиссеров толком не знал. Министерство императорского двора, управлявшее казенными театрами, прекратило свою деятельность. Театры остались без призора. Начались бесконечные собрания и совещания, суть которых сводилась к требованию автономии по образцу театра "Комеди франсез", устав которого Наполеон подписал в Москве. Как сообщает мемуарист (оперный певец Василий Безпалов, назначенный комендантом петроградских государственных театров), директор императорских театров Владимир Теляковский, "ознакомившись с пожеланиями трупп, очень верно охарактеризовал их, сказав, что отныне за дирекцией артисты признают лишь две обязанности: передавать автономным труппам деньги из казначейства и подметать театральные коридоры".
А 14 марта (1-го но старому стилю) Теляковского арестовали. В своем дневнике он рассказывает:
Сегодня утром, едва я кончил пить кофе, как к подъезду моему подъехал автомобиль, в котором было несколько человек вооруженных, и потребовали меня вниз... Вольноопределяющийся Волынского полка Вышневецкий, драматический артист, мне заявил, что меня требуют в Думу, при этом он обратился к своим коллегам и сказал: "Вот в каких царских хоромах живут сановники, в то время как народ голодает".
В Думе никто приказа об аресте не отдавал, и Теляковского, разобравшись, в тот же день отпустили, попросив продолжать исполнять обязанности.
В театрах царило брожение умов. Практически каждый спектакль превращался в митинг. Еженедельник "Театр и искусство" сообщал:
Первый спектакль в Мариинском театре 12 марта, "Майская ночь", был ознаменован рядом манифестаций во славу революции.
Освободить искусство от всяких Бенуа
Перед началом спектакля хор вышел на сцену и спел новое произведение г. Черепнина: "Не плачь над трупами" (точное название сочинения - "Не плачьте над трупами павших бойцов", текст Лиодора Пальмина, 1865. – В. А.). После этого оркестром и хором было исполнено "Эй, ухнем" в оркестровке А. К. Глазунова. 0бе вещи были биссированы по единодушному требованию публики.
Затем г. Ершов прочел свое стихотворение "Свобода". Послe этого исполнитель партии Левко г. Большаков обратился к публике со словами:
– Почтим павших борцов за свободу вставанием!
Хор спел "Вечную память".
Опустился занавес. Из оркестра раздались могучие звуки марсельезы.
Ко второму антракту в театр приехали некоторые члены Исполнительного Комитета и представители от Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. В "царской" ложе находились Гвоздев и Скобелев, которым публика устроила грандиозную овацию. Они оба кланялись из ложи и в небольших речах говорили о наступившей свободе. Они также приветствовали артистов-граждан, закончив свои речи словами:
– Да здравствует свободное искусство!
Из ложи, где сидели представители Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, оратор заявил, что paбочиe, получив свободу, будут стремиться к красоте, и поэтому приветствует граждан-артистов, которые присоединили свой голос к великой российской революции.
Бывшие на сцене артисты и хор шумно приветствовали оратора. Овация была также устроена и члену Г. Думы Чхеидзе, который сидел в боковой ложе.
Кузьма Гвоздев, Матвей Скобелев и Николай Чхеидзе – члены временного исполкома Петроградского совета, меньшевики.
В парадоксальном положении оказался Всеволод Мейерхольд. Будучи авангардистом в режиссуре, он благодаря своей последней постановке ассоциировался с царским режимом. Поэтому ему приходилось теперь демонстрировать свою левизну. Вместе с Маяковским, Ильей Зданевичем, Натаном Альтманом, Александром Родченко и Владимиром Татлиным Мейерхольд вошел в группу авангардистов "Свобода искусству", которая просуществовала около двух недель, но ярко проявила себя на собрании деятелей искусства в Михайловском театре 11 марта.
В числе прочих там присутствовали члены комиссии по охране художественных ценностей во главе с Горьким. Комиссия была создана по инициативе Бенуа вслед за сообщениями о начавшемся разрушении памятников. "Левые" художники видели в комиссии прообраз министерства искусств. Мейерхольд в своем выступлении требовал "освободить искусство от всяких Бенуа, которые стараются примазаться к новому ведомству изящных искусств, мечтают о Владимире в петличку и с вожделением ждут освободившихся казенных квартир". "Ему кричали из партера и лож: "Перестаньте сводить старые счеты и перемывать старое белье…", – но он упорно продолжал свою речь, а затем невозмутимо стоял, скрестив руки на груди", – вспоминает мемуаристка.
Председательствовавший на собрании управляющий делами Временного правительства Владимир Набоков строго отчитал Мейерхольда в газете "Речь":
Неужели же новый строй только закрепит в театре мейерхольдовщину?
Откровенно скажу, что ничего подобного я не ожидал, и что те четыре (приблизительно) часа, которые я провел в председательском кресле, оказались для меня поистине нравственной пыткой. Я не имею в виду внешней стороны собрания, а только касаюсь содержаний ораторских выступлений. Среди них особенно тяжелое впечатление произвели лично на меня – думаю, что и на других – слова В. Э. Мейерхольда. Правда, он имеет достаточное основание враждебно относиться к А. Н. Бенуа. Ничья критика, наверное, так больно его не задевала. Но если не что иное, то простой художественный вкус, казалось бы, должен был удержать в такую минуту от тех личных нападок и оскорбительных намеков, которые председатель не успел вовремя остановить. Однако даже и эта неприглядная сторона бледнеет перед узким и ограниченным фанатизмом, деспотически требующим, чтобы прекратилась всякая свободная инициатива в вопросах искусства.
14 марта Мейерхольд снова выступал, на этот раз в стенах Тенишевского училища. Он говорил, что "искусство по духу родственно революции, что в силу неких причин сейчас эта связь оборвана и что вина за это в театре возлагается на сонный, равнодушный партер. Когда в партер придет пролетариат, искусство театра воспрянет к новой жизни". Корреспондент "Речи" ехидно комментировал эту декларацию:
Мысли выражены почти правильные, но, право, нельзя было без краски в лице слушать это из уст художника, вся деятельность которого протекала именно для партера, служила его нездоровому гурманскому любопытству. Может быть, это неправда? Может быть, полтораста тысяч на постановку “Маскарада” истрачены для того, чтобы сделать его доступнее пониманию широких масс? Может быть, вообще все то пряное и тряпичное великолепие, которое создало славу д-ра Дапертутто, все чисто эстетские приемы игры, насаждаемые им, звали народ, поверх голов партера, к освобождению духа – единственной достойной искусства революции?
Даппертутто – псевдоним Мейерхольда, заимствованный из рассказа Гофмана "История о пропавшем отражении".
На одном из общих собраний актеры александринской труппы скопом ополчились на Мейерхольда. Патриарх театра 68-летний Владимир Давыдов "наговорил ему тьму неприятностей", а когда тот заявил, что не уйдет из театра ни при каких обстоятельствах ("пускай в меня стреляют – я, как офицер, на посту останусь"), первый любовник Роман Аполлонский сказал, что его влияние на театр "так же растлевающе, как Распутина на бывший царский двор". Оскорбленный Мейерхольд покинул совещание, пообещав вызвать Аполлонского на дуэль.
Имя Распутина было в те дни притчей во языцех. Пресса публиковала скабрезные сплетни об интимной связи старца с царицей и даже царскими дочерьми. В театрах ставились состряпанные на скорую руку фарсы с завлекательными названиями: "Ночные оргии Распутина", "Царскосельская благодать", "Царские грешки", "Гришкин гарем". Одно из непременных действующих лиц этих пьес, фрейлина Анна Вырубова, в это время, тяжело больная, томилась в Петропавловской крепости. "Царскосельскую благодать", сочинение актрисы Веры Балле, писавшей под псевдонимом "Маркиза Дляокон", приехали было играть перед матросами Кронштадта, но кронштадтский совет рабочих и солдатских депутатов "запретил играть этот фарс как порнографический".
Спустя несколько дней после стычки с Мейерхольдом Аполлонский разразился большой статьей под заголовком "Новый строй и "мейерхольдовщина".
Как Распутин фальсифицировал религиозную истину, профанировал самое сокровенное и заветное, – наше старчество, – и внес в общественную жизнь растление и разложение, так мейерхольдовщина вносит фальсификацию в театральную истину, профанирует самое ценное в искусстве и развращает актерство...
Мейерхольд нам навязан старым театральным режимом, мы должны были терпеть это уродство прежнего театрального самовластия. Неужели же новый строй только закрепит в театре мейерхольдовщину? Да не будет этого!
Своим секундантом режиссер выбрал актера Николая Ходотова, который и передал Аполлонскому формальный вызов, заметив при этом, что сам он предпочел бы третейский суд. Дуэль не состоялась. О третейском суде тоже ничего не известно. Мейерхольд остался в театре и продолжал ставить спектакли, в том числе с Аполлонским в главной роли. Летом 1917 года он получил известие, что Игорь Стравинский согласен, чтобы его оперу "Соловей" ставил Мейерхольд.
В государственных, бывших императорских театрах вообще мало что изменилось. Хотя на общих собраниях одна за другой принимались резолюции и "конституции" об автономии, все они по умолчанию носили временный характер, поскольку считалось, что окончательно отношения театров с властью определятся тогда, когда этой властью станет Учредительное собрание. В репертуаре почти ничего не поменялось кроме того, что была снята опера "Жизнь за царя". Режиссер Александринки Евтихий Карпов (Блок писал о нем: "Искусство кончается там, где начинается Евт. Карпов") поставил на сцене Михайловского театра свою старую пьесу "Зарево" из жизни пролетариев, где действует и революционерка (это был бенефис в пользу вторых режиссеров и суфлеров). Рецензент "Речи" назвал спектакль "слишком дешевой данью переживаемому историческому моменту".
Но публика решительно изменилась. Не только в партер, но и в ложи пришел тот самый зритель, о котором мечтал Мейерхольд: рабочие, солдаты, матросы.
Вместе с новой публикой пришли и новые проблемы. Как сообщала "Петроградская газета", "прежнее запрещение входа за кулисы на казенных сценах ныне отменяется. Теперь кулисы открыты для всех, и артисты очень довольны этим, так как имеют возможность во время спектакля выслушивать мнения о своей игре и исправлять свои ошибки".
"Публика Мариинского театра, – сокрушается критик "Обозрения театров", – теперь не только опаздывает к началу спектакля, но ухитряется опаздывать и к началу каждого последующего действия, несмотря ни на продолжительные антракты, ни на предупредительные звонки... Начало каждаго акта проходит под гомон и гул вторгающихся в зал процессий. Толкаются, разговаривают, роняют с шумом бинокли и коробки конфект, наступают на мозоли. Не слышно оркестра, не видно открывающейся сцены".
Неудивительно, что из театров стали пропадать личные вещи сотрудников, предметы реквизита и обстановки.
Актеры собираются и заявляют, что им не нужно начальство, они хотят управлять театрами сами
27 марта в Мариинском театре были похищены два пальто и фуражка, принадлежавшие курьеру и плотнику. "Доношу Конторе, – сообщал в рапорте заведующий зданием граф Менгден, – что произвести расследование... не представляется возможности, так как доступ на сцену и вообще во все помещения театра был совершенно свободный и кто хотел, мог проникнуть куда угодно".
"В театрах начинают учащаться пропажи и воровство, – записывает в дневнике Теляковский 21 апреля. – На днях из моей ложи пропали бронзовые часы... В Мариинском театре украдено несколько инструментов у артистов, и видели, как какой-то солдат за 15 рублей продавал в музыкальном магазине фагот". Днем раньше, в том же дневнике: "Опять поступило заявление из Мариинского Театра о пропажах у хористок каракулевой шубки и муфты, причем шубка оценивается в 600 р. Удивительно, как хористы, жалуясь на недостаток содержания и заработка, имеют столь ценное платье. У курьера оркестра тоже пропало пальто". 24 мая заведующий освещением Мариинского театра Леонов сообщал своему начальству: "13-го сего мая заметили пропажу 6-ти штук свечных одиночных бра (бронзовых). Осветитель Василий Капитонов, находясь по личным делам на Толкучем Александровском рынке, встретил поденного осветителя Мариинского театра Ивана Васильева, продававшего 4 бра, очень похожих на пропавшие". А 21 сентября в Мариинском театре обокрали нидерландского дипломата, которого "Петроградская газета" называет "посланником Дендейком" (Виллем Одендайк, возглавлявший миссию с июля 1917 года). "Выходя из театра, – сообщала газета, – посланник обнаружил кражу бумажника, в котором находилось более 1000 рублей, 100 гульденов и документы".
1 октября в Михайловском театре произошел, как выразилась газета "Обозрение театров", "неслыханный в летописях нашего Государственного театра постыдный скандал". В этот вечер там давали драму Островского "Грех да беда на кого не живет". В ложе бенуара расположилась компания из четырех человек: солдата, двух штатских и женщины. Газета продолжает:
Компания эта, не стесняясь, у всех на виду пила лимонад, разбавленный спиртом, и делала громкие замечания по адресу игравших артистов. Постепенно пьянея, субъект в солдатской форме дошел до того, что положил ноги на барьер и толкал сидевшего в соседней ложе офицера.
Поведение неприличных посетителей вызвало единодушные протесты всей зрительной залы. Возмущенная публика требовала вывести пьяных скандалистов из театра. В ответ на это из литерной ложи раздалось улюлюканье, пьяное мычанье и горделиво-пьяный возглас: "Посмотрим, кто смеет меня вывести, я член Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов".
По наблюдению корреспондента "Петроградской газеты", "лицу, одетому в солдатскую рубашку, особенно не нравилось поведение на сцене г. Студенцова, игравшего роль Бабаева. При каждом появлении артиста из ложи раздавались крики: – "Вон буржуя!.. Чего он втирается в крестьянскую семью?!.." Актриса Елизавета Тиме была вынуждена прервать свой монолог, потому что из ложи раздалось особо громкое "мычание". В конце концов находившийся в зале Батюшков вызвал комендантский наряд, который и выдворил пьяную компанию. Солдат оказался бомбардиром 4-й сибирской артиллерийской бригады Семеном Комаровым, никакого отношения к исполкому совета не имевшим.
3 октября "Петроградская газета" рассказала об инциденте в Александринском театре, где проходил благотворительный спектакль.
В то время, как артисты проходили для сбора пожертвований в фойе, двое мазуриков легко обокрали заслуженного артиста В. Н. Давыдова. Один из них срезал у него золотую цепочку и вытянул вместе с ней золотые часы, осыпанные бриллиантами, а другой залез в карман артиста и вытащил кошелек с деньгами.
По окончании своей "работы" воры намеревались смешаться с массой публики. Однако это им не удалось.
Артист государственной балетной труппы А. А. Орлов обратил внимание на "сжавших" В. Н. Давыдова субъектов и запомнил их физиономии.
Артист крикнул на весь фойе:
– Господа, у Владимира Николаевича Давыдова украли золотые часы с цепочкой!
Дежурившие в театре агенты уголовной милиции перекрыли входы и выходы, а Орлов бросился в погоню и, "увидя что-то сжатое в руке одного из мазуриков, ловким ударом вышиб кошелек В. Н. Давыдова". У задержанных помимо вещей Давыдова нашли еще одни золотые часы, два серебряных портсигара и бумажник с деньгами. Александр Орлов, солист Мариинского балета и дягилевской антрепризы, которого многие вспомнят по эпизодическим ролям в советских фильмах, к примеру, в "Свадьбе в Малиновке" (поп) и "Интервенции" (конферансье), был человеком отнюдь не субтильного телосложения.
Жизнь театра нарушена острыми разногласиями среди тружеников государственной сцены
Посреди всех этих передряг артистов по-прежнему волновал вопрос об управлении театральным делом. В бывших императорских театрах появились невиданные прежде организации – месткомы. Рабочие "начали выражать свое негативное отношение к сложным, требующим большой технической работы постановкам". Романистка Софья Смирнова-Сазонова, близко знакомая с обстановкой в театрах, записывала в дневнике:
В казен[ных] театрах происходит то же, что и на казен[ных] заводах. Актеры собираются и заявляют, что им не нужно начальство, они хотят управлять театрами сами. Собрания устраивают совместно с плотниками, вообще с театральными рабочими. Один из них заявил претензию, почему их не приглашают в репертуарн[ый] совет. Вот ставили «Маскарад», т[ак] сколько им работы было, они просто с ног сбили[сь].
В феврале забунтовал хор Мариинского театра. В опере "Майская ночь" он пел пианиссимо. На третьей картине публика не выдержала, послышались возмущенные крики. Хористы объяснили, что требуют прибавки к жалованью. Демарш повторился и на следующий день в "Севильском цирюльнике".
В марте сотрудники Александринского театра провели выборы во временный организационный комитет. В него вошли не только актеры, но и рабочие сцены, машинисты, гардеробщики и капельдинеры. Общее собрание Мариинского театра выбрало свой художественный совет и отстранило главного режиссера Иоакима Тартакова. "Его функции, – пишет "Петроградская газета", – будет выполнять распорядительный комитет, заведующий художественной частью". В собрании участвовал назначенный Временным правительством комиссар над бывшими учреждениями Министерства двора депутат Госдумы от Прогрессивной партии Николай Львов. Бас-баритон Павел Андреев произнес вдохновенную речь, в которой сказал: "Ярко загорелось солнце свободы, и мы хотим, чтобы пышный рассвет родины озарил бы и нас". На это комиссар Львов "ответил пожеланиями свободного развития проявлений русского народного творчества и гения и закончил свою речь возгласом: "Да здравствует свободная Россия!". Управляющим оперной труппой выбрали выдающегося пианиста и дирижера Александра Зилоти.
В Москве учинили демонстрацию на сцене артисты Большого театра. Во время спектакля "Искатели жемчуга" солист Леонид Собинов выступил с речью. "В трудные дни рождения русской свободы, – сказал он, – и наш театр, представлявший до сих пор неорганизованное собрание людей, “служивших” в Большом театре, слился в единое целое и основал свое будущее на выборном начале, как самоуправляющая единица… И мы, вся наша громада, сейчас обращаемся к представителям общественных организаций и Советам рабочих и солдатских депутатов поддержать Большой театр и не дать его на административные эксперименты петроградским реформаторам".
В частных театрах обстановка тоже накалилась. В апреле владелица Суворинского театра актриса Анастасия Суворина в письме труппе заявила, что «не позволит играть революционных пьес, а тем более пьес, в которых будет допущено издевательство над особой государя и его семьи, а также духовенством, а тем, кто не согласен с ее программой», предлагала оставить театр. Труппа в ответ обвинила ее в деспотизме и антиобщественной деятельности. На спектакле 8 апреля произошел инцидент, о котором пишет газета "Театр":
Когда в последнем акте на сцене появилась "хозяйка" театра А. А. Суворина, из публики раздались протестующие возгласы:
–Вон со сцены! Долой ее! Таким здесь не место!
Публика вскакивала с места, топала ногами, свистела. Занавес опустили и через несколько минут подняли вновь, пытаясь, по-видимому, продолжать спектакль, но протесты публики продолжались. Тогда занавес опустили опять. А. А. Суворина покинула театр.
В конце концов она была вынуждена отказаться от руководства театром. В мае Теляковский записал в дневнике:
В Москве то же случилось с Оперой Зимина, служащие которой потребовали, чтобы Зимин за все платил, но ни во что не вмешивался бы. Ему сохранили право давать деньги и сидеть в ложе – все остальное принадлежит служащим. Зимин от этого отказался, и Опера прекратила свое существование.
6 мая Временное правительство удовлетворило прошение Теляковского об отставке по состоянию здоровья. После октябрьского переворота большевики лишили его пенсии, и Теляковский пошел служить кассиром на железнодорожном вокзале.
Вся эта вольница продолжалась до конца октября, пока к власти не пришли большевики.
Мейерхольд все месяцы между февралем и октябрем работал. Его ученица Александра Смирнова-Искандер вспоминает о встрече с ним в квартире его сестер в Москве в сентябре 1917 года:
На этот раз встреча наша получила неожиданный оборот. Не произошло разговора ни о кино, ни о театре. В связи с предстоящими выборами в районные советы Мейерхольд говорил о великом вожде пролетариата – Ленине, о том, что за большевиками победа, и на выборах при голосовании они должны получить большинство голосов, что необходим мир, и что за это бьются большевики.
Октябрьский переворот кардинально изменил положение государственных театров. В первых числах ноября Мейерхольд пришел в Смольный на совещание с Луначарским и другими комиссарами. Кроме него, в совещании участвовали Маяковский, Блок, Лариса Рейснер, Натан Альтман, Давид Штеренберг. Мейерхольд, по словам участника встречи, "очень горячо выступал с целым рядом активных предложений, которые должны были сломать саботаж и бойкот со стороны подавляющей части художественной интеллигенции". Вскоре Мейерхольд был назначен заведующим театральным отделом Наркомпроса.
Хор на экстренном совещании постановил в полном составе уйти в отставку и покинул здание театра
Петроградский Военно-революционный комитет учредил пост комиссара государственных и частных театров и назначил на него Михаила Муравьева, режиссера Суворинского театра, который после Февральской революции проявил себя как активист профсоюзного движения. Для надзора за порядком и охраны имущества ему было придано 150 солдат. Муравьев разослал в театры циркулярное письмо, в котором предлагал всем артистам и служебному персоналу "оставаться на своих местах, дабы не разрушать деятельности театров", и предупреждал, что "всякое уклонение от выполнения своих обязанностей будет считаться противодействием новой власти и повлечет за собой заслуженную кару".
В ответ артисты Александринского, а за ними и Мариинского театра на общем собрании постановили, что они "не могут считаться с предписаниями самозваных комитетов" и в знак протеста временно прекращают спектакли. Возглавлял эту фронду литературовед Федор Батюшков, которого Временное правительство назначило главноуполномоченным при петроградских государственных театрах. "Именно он, Батюшков, – писал впоследствии актер Яков Малютин, – первый произнес слово "саботаж", которое, как сладкая отрава, проникло в души неустойчивых и не разобравшихся в событиях актеров".
Вероятно, Муравьев предлагал наркому просвещения Анатолию Луначарскому закрыть все театры и дело с концом, потому что 14 ноября нарком писал ему:
Организованный пролетариат достаточно мудр и опытен, чтобы решать такие вопросы только с самой разумной, строго хозяйственной точки зрения.
Сократит ли закрытие заведений, о которых идет речь, расход топлива, с другой стороны – увеличит ли эта мера армию безработных?
В данном случае решение вопроса нетрудно: экономии никакой, тридцать тысяч человек безработных.
Труженики сцены могут с доверием ждать ответа организованных рабочих. Мы совершенно уверены, что впредь до самой крайней нужды театры и пр. закрыты не будут.
К 28 ноября в Петроград съехались избранные депутаты Всероссийского Учредительного собрания, хотя и далеко не все. В этот день, как сообщала газета "Наш век" (бывшая "Речь"), в Мариинском театре давали "Князя Игоря".
Перед третьим действием публика требовала исполнения революционного гимна. Оркестр исполнил Марсельезу, которую все слушали стоя. По окончании Марсельезы раздались возгласы: "Да здравствует Учредительное собрание!" Оркестр снова исполнил Марсельезу. По указанию управляющ. театром А. И. Зилоти был поднят занавес, и один из публики, находясь в ложе, произнес горячую речь, посвященную первому дню Верховного Хозяина Русской Земли.
Аналогичная манифестация состоялась и в Михайловском театре.
Луначарский попытался договориться с театрами. Он опубликовал открытое письмо, в котором писал:
Мне известно, что совершенно бесполезные для театра чиновники, до сих пор безраздельно там господствующие, путем нелепых запугиваний стараются добиться от артистов государственных театров, хора, оркестра и технического персонала политических демонстраций против рабочего и крестьянского правительства, призывают их к забастовкам и т. д.
Я предупреждаю, что контора и весь бюрократический персонал управления театрами будут на днях самым решительным образом реформированы. Я приглашаю солистов и артистов петербургских театров, представителей хора и оркестра и технического персонала войти со мной в непосредственные сношения для полного соглашения о дальнейшей судьбе театров.
Я могу принять их делегации в любой день в министерстве народного просвещения от 2- до 4-х, начиная со среды 6 декабря.
Призыв не встретил отклика. Тогда нарком послал грозное письмо Батюшкову:
Мне известно, что жизнь театра нарушена острыми разногласиями среди тружеников государственной сцены. В то время как одни, исходя из интересов дела, которому они служат, стоя на чисто профессиональной точке зрения, идут навстречу желанию крестьянского и рабочего правительства урегулировать отношения демократии и театра в республике, – другие оказываются жертвой контрреволюционной политики и озлобленной агитации, не останавливающейся перед обманами, запугиваниями и посулами. Прошу вас немедленно пожаловать ко мне в министерство для объяснений по поводу этого факта. Предупреждаю вас, что в случае отказа от такого объяснения в понедельник, 11 декабря, вы будете немедленно уволены.
Батюшков пожаловать не изволил. Он опубликовал письмо Луначарского, присовокупив к нему свой ответ:
Вам угодно было прибегнуть к угрозе немедленного увольнения, если я не приду на ваш зов. Я не привык подчиняться угрозам, поэтому я не могу прийти. Никаких острых разногласий среди тружеников сцены нет. Наоборот, артисты и большинство служащих при государственных театрах движимы чувствами полной солидарности в отстаивании независимости искусства от политических партий и в признании автономного управления художественных коллективов. Мне неизвестно, о какой контрреволюцинной политике вы изволите писать. Не понимаю упреков в обманах, запугиваниях и посулах и оправдываться в них счел бы ниже своего достоинства. В моих глазах название контрреволюционеров заслуживают лишь те, кто покушается на великие завоевания русской февральской революции и прежде всего на свободу, которую я продолжаю считать величайшим благом человека во всех ее проявлениях: свободу слова, совести, неприкосновенность личности и т. д., свободу, опирающуюся на понятия права и правды...
Как пишет "Наш век", артисты государственных театров на общем собрании 10 декабря всецело поддержали позицию Батюшкова, разногласия возникли лишь по вопросу, отвечать Луначарскому или проигнорировать его послание. Но современный исследователь рисует более нюансированную картину:
Здесь сидел вор Яшка Куликов и ученик Листа Александр Зилоти
На общем собрании трупп государственных театров, состоявшемся в Мариинском театре 10 декабря, актер Г. Г. Ге от имени труппы Александринского театра (настроенной наиболее оппозиционно по отношению к большевикам) зачитал проект заявления в поддержку Батюшкова, в котором резко осуждалось ("…считаем совершенно недопустимым") "…посягательство на свободу действий нашего избранника и представителя" со стороны "…политических партий, неузаконенных во власти волею всего народа". В течение следующих суток это обращение редактировалось в других труппах и постепенно становилось все более "осторожным" в формулировках. Художественно-репертуарный комитет балетной труппы в своем варианте исключил упоминания об обеспокоенности тяжкими переживаниями России, ремарку о партиях, "неузаконенных волею народа", и характеристику Батюшкова как "нашего избранника" (оставив только "представителя").
В обеих труппах было и левое крыло. Яков Малютин, актер Александринки, которому тогда шел 32-й год, вспоминает в своих мемуарах, изданных в 1959 году:
Кое-где раздавались визгливые протестующие, открыто враждебные голоса актеров и актрис, которых Октябрьская революция заставила разоблачить себя. Это были отъявленные черносотенцы, поддерживавшие Временное правительство только потому, что с ним они не без оснований рассчитывали рано или поздно найти общий язык. Зато теперь, когда Временное правительство пало, они неистовствовали, брызгали слюной и проклинали Керенского за то, что он не сумел удержаться у власти. Большинство из этих людей впоследствии эмигрировало и бесславно закончило свой актерский путь в жалких белоэмигрантских театриках или в белогвардейских кабаках, обслуживавших парижских и берлинских толстосумов. Но не этими одинокими, истерическими выкриками характеризовалась господствовавшая в нашем театре в те дни атмосфера. Громко и страстно звучал тогда могучий бас Ильи Матвеевича Уралова, первого в нашем коллективе большевика, который не только сам с восторгом встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию, но и сумел сплотить вокруг себя значительную часть актеров среднего и младшего поколения.
Илья Уралов не был большевиком в строгом смысле, но он действительно собрал вокруг себя группу единомышленников, упивавшихся, по выражению одного из них, Доната Пашковского, "красным евангелием". Но они составляли меньшинство.
Однако артистам надо было трудиться, зарабатывать на хлеб. Батюшкову удалось договориться об аренде пустующего здания театра "Аквариум" на Каменноостровском проспекте, и с 27 декабря спектакли Александринки давались там.
Луначарский исполнил угрозу. "Я даю вам срок в 24 часа, – извещал он Батюшкова публично в "Известиях" от 13 декабря. – Если вы не пришлете мне за это время категорическое заявление о том, что вы подчиняетесь моему распоряжению, сдаете свою должность и очищаете занимаемую вами квартиру в трехдневный срок, что вы отказываетесь от дальнейшей интриги с каким-то высшим Советом, то я обращусь в Военно-следственную комиссию с просьбой немедленно арестовать вас, как чиновника, не подчиняющегося Революционной Власти и противодействующего ей".
Новым распоряжением Луначарский упразднил должности управляющих труппами. "Русская музыкальная газета" сообщала:
Управляющий труппой Мариинского театра А.И. Зилоти подал в отставку, которая была принята художественно-репертуарным комитетом. В ночь на 13-е января А.И. Зилоти был арестован и отправлен в Кресты. Но это явилось причиной нового конфликта: 8-го января спектакль был отменен, т.к. хор и оркестр отказались выступить, ввиду принятия Комитетом отставки г. Зилоти. Кроме того, забастовщики потребовали удаления из труппы режиссера Мейерхольда, дирижеров Малько и Асланова, певиц Коваленко и Владимировой, тенора Ершова и представителя технической части инженера Графа, примкнувших к большевикам.
Аресту Зилоти предшествовали следующие события. В конце декабря на царской ложе Мариинского театра появилась табличка "Ложа Учредительного собрания". 29 декабря Луначарский обратился к Дзержинскому:
Рассказывала, что у них по соседству на Марсовом поле каждую ночь происходят убийства
Как выяснилось, управляющий Мариинским театром А. Зилотти ведет против нас все время самую злостную агитацию, результатом которой явилось неподчинение до сих пор Рабочей и Крестьянской власти Государственных театров. Вчера мне стало известно, что А. Зилотти передал ключи от правительственных лож представителям правых фракций Учредительного Собрания и что по соглашению с ними он имеет намерение сделать 5-го января Мариинский театр ареной демонстрации против Советской власти.
30 декабря нарком просвещения направил к Зилоти своего заместителя Юрия Флаксермана с указанием "потребовать от А. Зилотти ключи от правительственных лож и подписки о недопущении каких бы то ни было спектаклей под политическими лозунгами без моего специального разрешения. В случае отказа выполнить это мое распоряжение А. Зилотти подлежит немедленному аресту, на что я уполномочен Советом Комиссаров".
Флаксерман явился в квартиру Зилоти на Крюковом канале в сопровождении отряда красногвардейцев. На требование отдать ключи Зилоти ответил: "Вы можете взять их только силой". Так передает его слова Флаксерман в своих написанных на склоне лет мемуарах "В огне жизни и борьбы". Как явствует из протокола допроса, проведенного в квартире на Крюковом (его нашел в архиве неутомимый исследователь этой темы петербургский историк Петр Гордеев), Зилоти отвечал, что ключей у него нет, они, вероятно, у театральных курьеров, что же касается "провокационного" представления в поддержку Учредительного собрания, "то таковое отменено уже 29-го декабря, так как срок открытия (Учредительного собрания. – В. А.) стал сомнительным". Засим Зилоти был препровожден на Гороховую в штаб-квартиру ВЧК, где его допросил лично Дзержинский. После допроса его отпустили.
2 января у дверей театральной дирекции была выставлена стража. Служащим конторы объявили, что они уволены. Комиссаром государственных театров Луначарский назначил эсера Владимира Бакрылова. В тот же вечер комиссар разослал уволенным предписание в семидневный срок "очистить" казенные квартиры. "Товарищ Бакрылов, – пишет Луначарский, – был человеком немного нажимистым и несколько самоуверенным, но его твердая рука хотя кое–где и прижимала довольно больно тот или иной пункт, но оказалась, на первое время по крайней мере, целесообразной. Некоторые говорили потом, что с Бакрыловым повеяло новым воздухом".
5 января (18-го по новому стилю) в Таврическом дворце открылось первое заседание Учредительного собрания. Оно же оказалось и последним. 6 января вышел декрет ВЦИК о его роспуске. Зилоти подал в отставку. Художественно-репертуарный комитет ее принял. 7 января перед утренним спектаклем "Евгений Онегин" хор на экстренном совещании постановил в полном составе уйти в отставку и покинул здание театра. Когда об этом было объявлено публике, она, как сообщает "Новая Петроградская газета", не только отнеслась сочувственно к хору, но сразу стала на его сторону... Кто-то заинтересовался позицией оркестра. Концертмейстер Вальтер сказал от имени оркестра что-то туманное. Дирижер А. К. Коутс сделал заявление, что уходит в отставку. Далее на сцену вышли солисты и один за другим заявили, что присоединяются к хору. В заключение публика пропела "Вечную память" и разошлась мирно из театра.
Эта манифестация стала причиной повторного ареста Зилоти в ночь с 11 на 12 января. "Директор Мариинского театра Зилотти вел себя настолько развязно и нагло, что мне пришлось отдать приказ об его аресте", – писал впоследствии Луначарский в статье 1931 года "На советские рельсы". Судя по протоколу заседания Совнаркома от 30 декабря (старый стиль), решение принималось именно этим органом по докладу Луначарского. В документе сказано:
Дать тов. Луначарскому по вопросу о правительственных ложах и Зилоти carte blanche. Арестовать Зилоти и не освобождать его без согласия Луначарского. Поручить тов. Штейнбергу расследовать обстоятельства, при которых был освобожден Зилоти (т. е. в первый раз. – В. А.).
На сей раз Зилоти заключили в "Кресты". Врач Иван Манухин, назначенный Временным правительством врачом Чрезвычайной следственной комиссии и продолжавший наблюдать за здоровьем политзаключенных при большевиках, узнав об аресте Зилоти, которого он лично знал, бросился к Луначарскому. О дальнейшем он рассказал в своих воспоминаниях:
Взволнованный, расстроенный, какой-то растерянный, он шагал из угла в угол комнаты, стал жаловаться на невероятные трудности, которые встречает новая власть, на саботаж. Об освобождении Зилоти не хотел и слышать: он держит всю оперу под своим влиянием, он виновник, что театр бастует. "И вы увидите, –решительно заявил Луначарский, – без него опера откроется". После долгих переговоров и настойчивых увещаний и упрашиваний Луначарский в конце концов пошел на компромисс: из Крестов он Зилоти выпустит, но при условии, что я перевезу его к себе на квартиру, а у меня он должен сидеть, не выходя на улицу и не пользуясь телефоном. Ответственность за исполнение этих условий возлагается на меня. С какою радостью помчался я в Кресты с документом об освобождении в руках!
А. И. Зилоти я застал в маленькой тесной камере с грязными обшарпанными стенами и тусклым от грязи оконцем. Трудно было вообразить большего несоответствия своеобразно-изящного облика А. И., его тонкой музыкальной души с окружавшей его обстановкой! Со свойственной ему непринужденной веселостью встретил он весть о свободе и, прежде чем я успел опомниться, со смехом повлек меня куда-то в конец галереи, в уборную. "Полюбуйтесь, нет, вы полюбуйтесь на эту архитектуру! Это же черт знает что!.. –восклицал он. –Следующий свой концерт я дам в пользу переустройства этого учреждения в Крестах"... А затем, когда мы вернулись в камеру, указал на надпись на грязной стене. Там значилось: "Здесь сидел вор Яшка Куликов". А вот я сейчас и продолжу, сказал А. И. и четко выписал карандашом "и ученик Листа Александр Зилоти".
Александр Ильич Зилоти с семьей покинул Россию в 1919 году. С 1922 жил в США, преподавал, концертировал, во время войны жертвовал средства в советский Фонд обороны.
Артисты, обратившие на себя внимание новой власти своей "левизной", продолжали лелеять мечту о театральной автономии. "Но по тогдашнему времени, – вздыхает Луначарский, – даже автономия Пашковского (не говоря уже о злостном автономизме правого крыла) представляла собою некоторую опасность". В итоге коллективный орган – директории – сменились просто директорами.
Апатия сквозила и в исполнении солистов, более напоминавших загробные тени
Балетная труппа Мариинского театра вела себя в этих обстоятельствах осторожно. В России не было частных балетных театров, куда танцовщику казенной сцены можно было бы уйти по примеру оперных певцов или актеров драмы. Артисты балета участвовали в общих собраниях сотрудников императорских театров, но своих собраний почти не проводили. Батюшков на одном из заседаний чиновников бывшего Министерства двора рассказал, что получил поддержку большинства артистов Мариинского театра на общем собрании 10 декабря (после обмена открытыми посланиями с Луначарским), при этом добавив: "Однако и среди артистов нашелся большевик (из балетной труппы), который выразился, что хотя Батюшков и против большевиков, однако деньги не брезгует получать из их рук". Имени он не назвал, и у историков нет никаких предположений, кто бы это мог быть.
Сергей Бертенсон, работавший в то время заведующим постановочной частью петроградских театров, вспоминает характерный случай. В декабре Мариинский театр подготовил юбилейный спектакль оперы "Руслан и Людмила" (ее премьера состоялась 9 декабря 1842 года). По этому случаю на партию Фарлафа был "выписан" Шаляпин. Михаил Фокин работал над обновлением хореографии. Его очень беспокоил марш Черномора. По договоренности с Зилоти и дирижером Коутсом перед шествием в четвертом акте был опущен занавес, и Фокин устроил "тихую репетицию".
Марш шел со специальными световыми эффектами, для которых один из осветителей спускался с колосников на небольшом балкончике, называвшемся на профессиональном языке "люлькой". С этой "люльки"осветитель манипулировал лучом света, двигая им в разных направлениях... Но находившийся в тот вечер в "люльке" осветитель почему-то оказался не в духе и, в самый разгар последних режиссерских штрихов Фокина, шепотом отдававшего распоряжения артистам, репетировавшим марш, громко закричал: "Эй, вы там, довольно уж повторять одно и тоже! Мне надоело висеть тут, спускайте меня скорее вниз!" Рабочие исполнили его желание и спустили его вниз.
На Фокина этот случай произвел громадное впечатление, и, как он мне рассказал много лет позднее, под его влиянием в нем сложилось окончательное решение покинуть Мариинский театр и родину.
Самое авторитетное лицо балетной труппы, Тамара Карсавина, возглавлявшая художественно-репертуарный комитет, поссорилась с главным балетмейстером Михаилом Фокиным и сложила с себя полномочия председателя, а в начале января слегла с тяжелой болезнью. Александр Бенуа, принимавший участие в постановке "Петрушки" (из-за отъезда Фокина премьера состоялась лишь в ноябре 1920 года), записал в дневнике 9 января (22-го по новому стилю):
Одно для меня ясно: театр разваливается. На место дельного Мецнера (одного из видных чиновников бывшей Дирекции) воссела какая-то баба в валенках; новоназначенных комиссаров осаждают артисты с разными требованиями, и они никак не могут разобраться в ворохах бумаг и т. д. Хуже всего – самоопределение разных частей всего этого чудесно налаженного внушительного механизма б. Императорских театров...
Бенуа дважды навещал Карсавину у нее дома и оставил об этом записи. Первый визит: "...лежит в постели и выглядит под своей лисьей шубой "прелестным затравленным зверьком". Ей кажется, что у нее тиф (по городу ходит слух, что свирепствует сыпной голодный тиф). В ужасе от того, что творится в театре". Запись о втором посещении: "Рассказывала, что у них по соседству на Марсовом поле каждую ночь происходят убийства".
Фокин в те дни уже всецело был поглощен хлопотами об отъезде и не хотел ссориться с властями. Поэтому общее собрание балетной труппы 8 января приняло сравнительно мягкую резолюцию. В ней было мало дельных предложений, но много пафоса:
Правильная художественная работа балетной труппы в Государственном Мариинском театре может продолжаться только при полной гарантии сохранения ее автономии, при полной гарантии неприкосновенности ее выборных представителей, руководящих ее деятельностью, и при сохранении всех приобретенных ею прав. При нарушении этих условий, ответственность за могущие быть последствия должна пасть на лиц, своим вмешательством разрушающих одно из самых высоких проявлений творчества Русского духа, одну из величайших художественных ценностей, единственную во всем мире – Русский Балет.
23 января Фокин получил разрешение на выезд за подписью Луначарского. С женой и сыном он ехал в Швецию "для устройства балетных спектаклей". При этом им также разрешалось "вывезти и ввезти обратно костюмы и другие относящиеся сюда предметы". Ввозить обратно не понадобилось. Фокин не вернулся.
26 января делегация артистов балета была на приеме у Луначарского со своим проектом "автономии". Они предложили наркому устроить "балетный спектакль для народа" и обсудили с ним "новые усиленные нормы артистического труда" (в смысле усиленной его оплаты). На этом балетная фронда закончилась.
Тамара Карсавина вышла на сцену Мариинского театра в последний раз 18 мая в "Баядерке". Летом того же 1918 года он выехала в Лондон с мужем, британским дипломатом Генри Брюсом, и их сыном Никитой.
Мейерхольд всю зиму и весну продолжал трудиться над "Соловьем". Решение поставить оперу Стравинского было принято дирекцией императорских театров еще в 1915 году, вскоре после успешной дягилевской премьеры в Париже. Сюжет китайской сказки Андерсена с его гимном чистому искусству был невероятно далек от злобы дня. Премьера состоялась 30 мая 1918 года. По словам единственного рецензента,
"Соловей" не имел успеха. Недоуменное чувство овладело зрительным залом... Скука и уныние, издавна царствующие в Мариинском театре, не пожелали покинуть насиженные места хотя бы и для такой залетной птицы, как "Соловей". Апатия сквозила и в исполнении солистов, более напоминавших загробные тени.
Но "бывают странные сближения". В последней сцене "Соловья" больного императора мучают кошмары. На груди у него сидит Смерть в императорской короне, с его саблей и знаменем в руках. Его ложе обступают призраки. Вот как описывает это Андерсен:
То были злые и добрые дела императора, смотревшие на него, в то время как Смерть сидела у него на сердце.
– Помнишь это? – шептали они попеременно. – А это помнишь? – и рассказывали ему о многом таком, отчего на лбу у него выступал холодный пот.
– Я совсем не знал об этом! – говорил император. – Музыку сюда, музыку! Большой барабан! Чтоб я не слышал их слов!
На помощь монарху приходит Соловей. Он поет о том, как прекрасен его сад.
Он пел, а призраки, обступившие умирающего императора, стали тускнеть, и в ослабевшем теле императора кровь потекла быстрее; сама Смерть заслушалась соловья и все повторяла: “Пой, пой еще, соловушка!”
(Перевод Анны и Петра Ганзенов)
На рассвете придворные входят в опочивальню, ожидая увидеть там тело покойного императора. Но их правитель жив. Он выздоровел. А смерть исчезла.
Николай II и его семья в день премьеры находились в Екатеринбурге, в доме Ипатьева. До расстрела оставалось шесть недель.
"Дорогой товарищ, – писал Мейерхольд Луначарскому в октябре 1918 года. – Вы меня забыли. И я очень огорчен. Работать можно весело, лишь находясь в постоянном контакте с вожаком... Я рад, что уже почти в партии (имею кандидатский билет), хоть Вы и не оставили мне обещанной рекомендации". Мейерхольд был принят кандидатом в члены РКП (б) в партийной ячейке Школы актерского мастерства в Петрограде в августе.
Спустя год, 26 августа 1919 года, Совнарком издал декрет "об объединении театрального дела". Отныне все они подчинялись Центральному театральному комитету (Центротеатру) при Наркомпросе. Их имущество объявлялось "национальным имуществом". В декрете были слова об автономии театров. Однако они обязаны были давать "ежегодный отчет Центротеатру как о художественной, так и о материальной жизни за год", и Центротеатр имел право "давать автономным театрам известные указания репертуарного характера в направлении приближения театра к народным массам и их социалистическому идеалу".
"Декрет об объединении театрального дела в России, – объяснял Луначарский, – является крупнейшим шагом вперед в направлении перерождения театра в своеобразный народный институт художественной пропаганды жизненной мудрости, даваемой в самой приятной, в самой увлекательной форме".